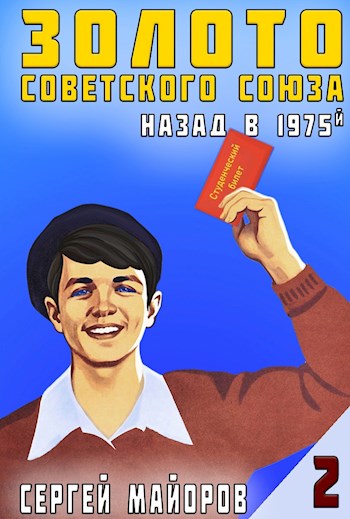Шрифт:
-
+
Закладка:
Сделать
Перейти на страницу:
Анатолий Алексеевич Азольский (1930–2008) — известный русский писатель авантюрного жанра, произведения которого получали высокие литературные награды, по ним снимались кинофильмы. В книгу вошли пять его детективно-остросюжетных повестей («Нора», «Облдрамтеатр», «Патрикеев», «ВМБ», «Белая ночь»), написанных прекрасным языком, с тонким юмором и динамичной фабулой. Их герои — вечные искатели приключений, деньги для них — презренный металл, нужный лишь для обеспечения свободной жизни.
Перейти на страницу:
Еще книги автора «Анатолий Алексеевич Азольский»:
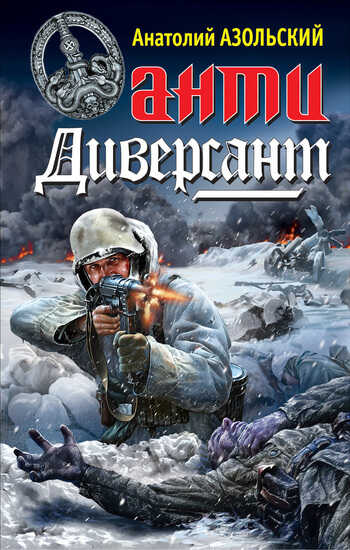
![Нора [сборник] - Анатолий Алексеевич Азольский](/uploads/posts/books/9723/9723.jpg)